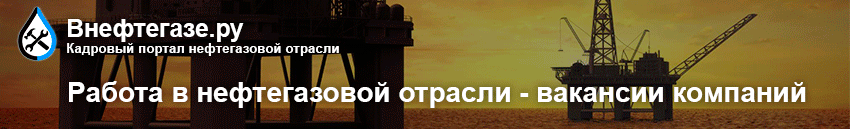Махмуд Эсамбаев
Из интервью с одним из друзей Эсамбаева, украинским хореографом Григорием Чапкисом:
— А что еще могло вывести его из себя?
— Имелась масса поводов для раздражения, но матерщинником, как Рудольф Нуриев, Махмуд не был. Нуриев был потрясающим танцором, но очень жестоким человеком. Посмотрев на репетиции на кого-либо из своих коллег, «оценивал» их не иначе, как: «Говно». Появится, допустим, молодой талант, все в восторге от него. Только не Нуриев! Помню, зашел он к нам на репетицию. Показал пару элементов. Все поздравили его с блестяще исполненными па. Он сел на стул, смотрит, как мы усвоили материал. Только мы начали показывать, Рудольф как закричит: «Что ты делаешь? Это же полное…». Эсамбаев был более терпимым. Хотя с возрастом и у него начали сдавать нервы.
— С Махмудом Эсамбаевым я познакомился в 1951 году в Москве, мы вместе готовились к III Всемирному молодежному фестивалю в Берлине. Нам читали лекции о том, как правильно вести себя в Германии, общаться. Ходить по улице одному запрещалось. Помню, с нами поехала многочисленная бригада кагэбистов.
В состав советской делегации входили полторы тысячи человек. Целый эшелон. И вот, представьте себе, с нами случилось ЧП. Нас всех отравили. Срачка напала такая, что мы только то и делали, что бегали от туалета к врачу и наоборот. В ночь с тринадцатого на четырнадцатое августа прилетел самолет из Москвы. Новый персонал должен был заменить всех уборщиц и медсестер. До утра нас кололи, давали разные таблетки, делали промывания, ведь нужно было выступать. Назло врагам мы выиграли золотых медалей больше, чем участники из других стран. Вот в это время мы с Махмудом и сдружились. У нас было одно горе, что всегда сближает.
Советская делегация была изолирована от всех, хотя мы и находились в Берлине четырнадцать дней. Наши спортивные и танцевальные коллективы жили и тренировались отдельно друг от друга. Никто не имел права выходить за отведенные ему границы. Помнится случай, когда на очередной политический митинг в центре Берлина, посвященный дружбе народов, проникли «фашиствующие элементы». Они стали бросать в толпу баллончики со слезоточивым газом. Началась паника, давка.
— На гастроли Эсамбаев ездил один?
— Нет, с женой. Она была у него за костюмера. У Махмуда ведь было очень много нарядов, один бы он с ними не разобрался. Да и времени свободного у него не было, поскольку большую часть жизни проводил в тренировочном зале, совершенствуя профессиональное мастерство. Иногда не выходил из танцевального зала по 10-15 часов! Был ТАКИМ трудоголиком, которых мало. Один поклон мог репетировать два часа! Всего добивался благодаря огромной настырности. Если что-то не получалось, приходил в бешенство.
Махмуд Эсамбаев "Моя любимая еврейская мама"
Мой отец чеченец и мама чеченка. Отец прожил 106 лет и женился 11 раз. Вторым браком он женился на еврейке, одесситке Софье Михайловне. Её и только её я всегда называю мамой. Она звала меня Мойше.
— Мойше! — кричала она. — Иди сюда.
— Что, мама?
— Иди сюда, я тебе скажу, почему ты такой худой. Потому что ты никогда не видишь дно тарелки. Иди скушай суп до конца. И потом пойдёшь.
Мама сама не ела, а все отдавала мне. Она ходила в гости к своим знакомым одесситам, Фире Марковне, Майе Исаaковне — они жили побогаче, чем мы, — и приносила мне кусочек струделя или еще что- нибудь.
— Мойше, это тебе.
— Мама, а ты ела?
— Я не хочу.
Меня приняли в труппу Киргизского театра оперы и балета. Мама посещала все мои спектакли.
У мамы было своё место в театре. Там говорили: «Здесь сидит Мишина мама».
Мама спрашивает меня:
— Мойше, ты танцуешь лучше всех, тебе больше всех хлопают, а почему всем носят цветы, а тебе не носят?
— Мама, — говорю, — у нас нет родственников.
— А разве это не народ носит?
— Нет. Родственники.
Потом я прихожу домой. У нас была одна комнатка, железная кровать стояла против двери. Вижу, мама с головой под кроватью и что- то там шурует. Я говорю:
— Мама, вылезай немедленно, я достану, что тебе надо.
— Мойше, — говорит она из под кровати. — Я вижу твои ноги, так вот, сделай так, чтоб я их не видела. Выйди.
Я отошел, но все видел. Она вытянула мешок, из него вынула заштопанный старый валенок, из него — тряпку, в тряпке была пачка денег, перевязанная бичевкой.
— Мама, — говорю, — откуда у нас такие деньги?
— Сыночек, я собрала, чтоб тебе не пришлось бегать и искать, на что похоронить мамочку. Ладно, похоронят и так.
Вечером я танцую в «Раймонде» Абдурахмана. В первом акте я влетаю на сцену в шикарной накидке, в золоте, в чалме. Раймонда играет на лютне. Мы встречаемся глазами. Зачарованно смотрим друг на друга. Идёт занавес. Я фактически ещё не танцевал, только выскочил на сцену. После первого акта администратор подает мне раскошный букет. Цветы передавали администратору и говорили, кому вручить. После второго акта мне опять дают букет. После третьего — тоже. Я уже понял, что все это — мамочка. Спектакль шёл в четырёх актах. Значит и после четвёртого будут цветы. Я отдал администратору все три букета и попросил в финале подать мне сразу четыре. Он так и сделал. В театре говорили: подумайте, Эсамбаева забросали цветами!
На другой день мамочка убрала увядшие цветы, получилось три букета, потом два, потом один. Потом она снова покупала цветы.
Как- то мама заболела и лежала. А мне дают цветы. Я приношу цветы домой и говорю:
— Мама, зачем ты вставала? Тебе надо лежать.
— Мойше, — говорит она. — Я не вставала. Я не могу встать.
— Откуда же цветы?
— Люди поняли, что ты заслуживаешь цветы. Теперь они тебе носят сами.
Она хотела, чтобы я женился на еврейке, дочке одессита Пахмана. А я ухаживал за армянкой. Мама говорила: «Скажи, Мойше, она тебя кормит?» (Это было ещё в годы войны).
— Нет, — говорю, — не кормит.
— А вот если бы ты ухаживал за дочкой Пахмана…
— Мамa, у неё худые ноги.
— А лицо какое красивое, а волосы… Подумаешь, ноги ему нужны.
Когда я женился на Нине, то не могу сказать, что между ней и мамой возникла дружба.
Я начал преподавать танцы в училище МВД, появились деньги. Я купил маме золотые часики с цепочкой, а Нине купил белые металлические часы. Жена говорит:
— Маме ты купил с золотой цепочкой вместо того, чтоб купить их мне, я молодая, а мама могла бы и простые носить.
— Нина, — говорю, — как тебе не стыдно. Что хорошего мама видела в этой жизни? Пусть хоть порадуется, что у неё есть такие часы.
Они перестали разговаривать, но никогда друг с другом не ругались. Один раз только, когда Нина, подметя пол, вышла с мусором, мама сказала: «Между прочим, Мойше, ты мог бы жениться лучше». Это единственное, что она сказала в её адрес.
У меня родилась дочь. Мама брала её на руки, клала между своих больших грудей, ласкала. Дочь очень любила бабушку. Потом Нина с мамой сами разобрались. И мама мне говорит: «Мойше, я вот смотрю за Ниной, она таки неплохая. И то, что ты не женился на дочке Пахмана, тоже хорошо, она избалованная. Она бы за тобой не смогла все так делать». Они с Ниной стали жить дружно.
Отец за это время уже сменил нескольких жён. Жил он недалеко от нас. Мама говорит: «Мойше, твой отец привёл новую никэйву. Пойди посмотри.» Я шёл.
— Мама, — говорю, — она такая страшная!
— Так ему и надо.
Умерла она, когда ей был 91 год. Случилось это так. У неё была сестра Мира. Жила она в Вильнюсе. Приехала к нам во Фрунзе. Стала приглашать маму погостить у неё: «Софа, приезжай. Миша уже семейный человек. Он не пропадёт. месяц- другой без тебя». Как я её отговаривал: «Там же другой климат. В твоём возрасте нельзя!» Она говорит:
— Мойше, я погощу немного и вернусь.
Она поехала и больше уже не приехала.
Она была очень добрым человеком. Мы с ней прожили прекрасную жизнь. Никогда не нуждались в моем отце. Она заменила мне родную мать. Будь они сейчас обе живы, я бы не знал, к кому первой подойти и обнять.
26 апреля 2014 ufa_tatarin Разное
Источник: http://ufa-tatarin.livejournal.com/221784.html