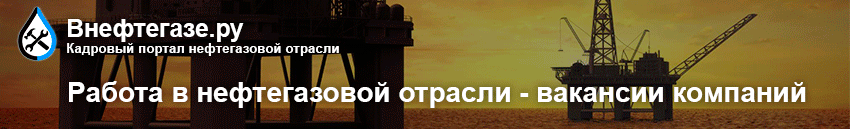Про национальность
Сидели мы как-то за обеденным столом: мама, я и мой сводный брат. Было это давно, мне было лет 8. Мама с хохотом рассказывала, что маленькая дочь ее сестры заявила в школе, что ее дедушка татарин. Ни один из ее дедушек татарином не был, поэтому все родственники смеялись и удивлялись, зачем она такое выдумала. «Мама, а ты же чувашка по национальности?», — спросила я. Мама округлила глаза и пнула меня ногой под столом. Я не поняла, но обиделась. После обеда мама зло и строго мне сказала, что спрашивать у человека, а тем более у нее, мамы, кто она по национальности, крайне неприлично. Крайне неприлично также отмечать, что мама чувашка, добавила она.
С того момента я уяснила, что говорить с мамой о национальностях запрещено. Также лучше ни с кем не обсуждать чувашей, решила я. Кто такие чуваши я знала плохо. Сейчас для меня это выглядит парадоксально, но тогда странным не казалось.
Мама моя чувашка – выросла в чувашской семье, где все говорили по-чувашски. Но за всю мою жизнь мама не произнесла ни слова по-чувашски. Жили мы в Оренбургской области в селе, основанном чувашами 300 лет назад. Чувашей в селе было много. Но национальности мы не обсуждали ни в семье, ни в школе, ни на улице. Чувашские праздники не отмечали, на уроках про чуваш не говорили. В детском саду на праздники воспитатели наряжали нас и сами наряжались в русские народные костюмы. Пели мы русские народные песни, читали русские народные сказки. Учились разрисовывать тарелки хохломой. Я понятия не имела, кто по национальности мои друзья и одноклассники.
На чувашском говорили только бабушки. Через забор кричали друг другу непонятные слова. Нам, детям, это казалось чем-то недоступным для сознания – будто рядом с нами инопланетяне. Долгое время я не знала, что это чувашский. Искренне считала, что это особый бабушкинский язык. Я представляла, что став старым, человеку открывается какой-то новый уровень, и он не может уже общаться на родном языке и вынужден говорить с такими же, как он, на языке специальном. Мне казалось это совершенно логичным, ведь старость – это так далеко, нескоро и непонятно. С сожалением я думала о том, что когда я стану старой, мне придется говорит на этом некрасивом, как мне тогда казалось, бабушкинском языке.
В 5 классе, когда я перешла в среднюю школу, новая классная руководительница попросила меня зайти к ней после уроков. Я понятие не имела, зачем. Зашла в пустой класс, ко мне подошла учительница, лицо было взволнованным. Она была уже в возрасте, в школе преподавала давно. Шепотом она сказала: «Мне нужно заполнить твое личное дело. И там нужно указать твою национальность. У тебя украинская фамилия, мама чувашка, но ведь ты мы не будем указывать, что ты украинка? Укажем, что ты русская, ведь мы же живем в России, мы русские». «Да, — кивнула я. – Я не против». Помню, что чувства были разные. Это был странный разговор, со мной раньше никогда такие не вели. Но в душе я обрадовалась. «Она считает, что я такая же, как все, это хорошо. У меня будет указано, что я русская, значит, никто не узнает, что я нерусская».
Я жила дальше и ощущала себя только русской. Ощущала себя славянкой на сто процентов. Про национальности в нашей семье, по-прежнему разговоров не вели. Но я догадывалась, что я не выгляжу, как чуваши – на темноволосую, темноглазую маму я не похожа ни капли, копия – украинский дед. Мне это очень нравилось. Никто не ставит под сомнение то, что я славянка, — это хорошо.
Становясь старше, я начала осознавать, что все непросто. Я начала знакомиться с людьми, которые не боялись говорить о национальности. Правда, это всегда было либо в негативном, либо в шутливом ключе по отношению к «нерусским». В Оренбурге, как и в любом другом российском регионе, сильные шовинистические настроения. Они редко выливаются в публичную плоскость, но они очень мощные на бытовом уровне. Став студенткой, я иногда, если заходил разговор, упоминала, что я смешанной национальности, но про свою чувашскую часть говорила шутливо, как будто это мой недостаток, о котором я знаю, но не люблю говорить.
Все поменялось, когда я приехала в Уфу. Я была поражена, что в России есть место, где могут так открыто, так много и так спокойно говорить о разнообразии национальностей. Я почувствовала себя неуютно, потому что казалось, что все вокруг определились со своей национальной идентичностью и могут, не стесняясь, рассказать об этом. Мне было странно и сложно, но я продолжала думать о себе только как о человеке русской национальности.
Со временем, я начала принимать свою другую сторону. Было даже немного приятно, что я в Уфе вроде как немного своя – тоже из тюркских народов. Начала что-то читать про чуваш, расспрашивать свою семью. Так я узнала, что моя мама до взрослого возраста понимала чувашский и говорила на нем. Я была шокирована и расстроена – почему она меня не научила? В то же время я чувствовала, что все усложнилось. Я как будто потеряла право называть себя русской. Каждый раз, когда заходил об этом разговор, я чувствовала, будто я обманываю, говоря, что я славянка. При этом назвать себя чувашкой я тоже не могла.
Вся эта неопределенность была неприятной, но, в целом, не доставляла больших неудобств. До того, как я переехала в Израиль. В израильском МВД мне дали анкету, которую надо было заполнить дома. И там надо было указать национальность. Свою и родителей. Плюс к анкете надо было приложить свидетельство о рождении, где национальности родителей указаны. Я впала в ступор. Графа национальность была обязательной. Я думала полдня, даже позвонила своему израильскому адвокату. Мои сомнения его очень развеселили, он рассказал мне анекдот и сказал указывать «русская», если ощущаю себя русской. Муж сказал: «Укажи чувашка! Такого в Израиле нет, ты откроешь статистику по чувашам!». В итоге я указала «русская». И поняла, что моя анкета абсолютно шизофреничная. Мама – чувашка, папа – украинец, а я – русская. Анкету я отправила по почте и неделю представляла выражение лица сотрудника МВД, которому придется это читать. Такие дела.
19 марта 2020 Дарья Кучеренко Общество
Источник: https://www.facebook.com/kucherenko.dasha/posts/243674698997...