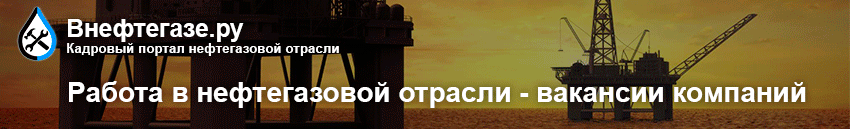Сад имени Сергея Тимофеевича Аксакова: 230 лет истории
Сад – это попытка создания
идеального мира взаимоотношений
человека с природой.
Д.С. Лихачёв из книги «Поэзия садов»
Если обратиться к истории Уфимских садов и парков, то сад им. С.Т. Аксакова — старейшим из них. Как городской общественный сад он был открыт в мае 1863 года, но заложен гораздо раньше и непосредственно связан с жизнью и творчеством Сергея Тимофеевича Аксакова, и с уфимским периодом жизни его семьи.
Сад эпохи рококо.
В XVIII в. часть современной улицы Пушкина, где расположен сад, называлась Голу’биной слободкой. Именно здесь, вскоре после бракосочетания поселились будущие родители писателя. Стряпчий верхнего земского суда, прапорщик Тимофей Степанович Аксаков, и дочь коллежского советника Николая Семеновича Зубова — Мария венчались в Успенской церкви 19 февраля 1788 год. Метрическая запись об этом событии сохранилась и дошла до наших дней. Из «Семейной хроники» С.Т.Аксакова мы знаем, что Николай Семенович, настоял, что бы молодожены поселились в собственном доме, подарил дочери деньги, и она на свое имя купила усадьбу Веселовских в Голубиной слободке.
«…Домик был новенький, чистенький, никто в нем еще не жил. Софья Николавна сгоряча принялась с свойственною ей ретивостью за устройство нового своего жилья и житья-бытья… Для окончательного устройства своего новенького домика и маленького хозяйства Софья Николавна пригласила к себе на помощь одну свою знакомую вдову, уфимскую мещанку Катерину Алексевну Чепрунову, женщину самую простую и предобрую, жившую где-то в слободе, в собственном домишке с большим, однако плодовитым садом, с которого получала небольшой доход… Софья Николавна, несмотря на свое болезненное состояние и самые скудные средства, умела убрать свой домик, как игрушечку. Вкус и забота заменяют деньги, и многим из приезжавших в гости к молодым Багровым показался их дом убранным богато».
Здесь у молодой четы родилась и на четвертом месяце умерла дочь. Очень тяжело пережив смерть первого ребенка, и готовясь, стать матерью во второй раз, Марья Николаевна Аксакова (в своем повествовании Сергей Тимофеевич называет её Софьей Николаевной Багровой, урожденной Зубиной) уже хорошо понимала, как ей необходимы душевное спокойствие, хорошее расположение духа и прогулки на свежем воздухе. В 1791 году, «…наступила ранняя и в то же время роскошная весна; взломала и пронесла свои льды и разлила свои воды, верст на семь в ширину, река Белая! Весь разлив виден был как на ладонке из окон домика Голубиной слободки; расцвел плодовитый сад у Багровых, и запах черемух и яблонь напоил воздух благовонием; сад сделался гостиной хозяев, и благодатное тепло еще более укрепило силы Софьи Николаевны… В хорошую погоду она прохаживалась по саду, два раза в день по получасу; в дурное время то же делала в комнатах, растворив все двери своего небольшого домика».
Краеведы и аксаковеды, изучая подлинные уфимские реалии, описанные Аксаковым, не раз убеждались насколько точно писатель помнил даже мельчайшие подробности своего детства. Не стоит сомневаться, что сад при доме в Голубиной слободке, где 20 сентября 1791 года родился Серёжа Аксаков, действительно, существовал. Совсем небольшое его описание, тем не менее, содержит очень много интересных деталей.
Яблоневые сады на уфимских усадьбах были уже в самом начале XVIII века, а первые, появились еще в XVII в. Уфимский историк Б.А. Азнабаев в своем исследовании «Уфимская дворянская городская усадьба начала XVIII в. (По материалам крепостных книг Уфимской провинциальной канцелярии)», опубликованном в краеведческом сборнике «Река времени» — 2011, приводит следующие интересные сведения. По переписи 1718 года в Уфе числилось 1463 двора с населением 5643 человека. В 1701-1712 гг. из 116 купчих, составленных дворянами, полоцкими шляхтичами и другими привилегированными категориями горожан, в которых присутствуют подробные описания усадеб, было отмечено 6 яблоневых садов. Причем, во всех не было никаких хозяйственных построек кроме ограды. При этом цена на них была сопоставима с полностью застроенными дворами. Например, в 1711 г. вдова дворянина И.В. Васильчина продала яблоневый сад Н.А. Каловскому за немалую по тем временам сумму в 8 рублей (постройка дворянского дома обходилась в 3-6 рублей).
Когда я рассказала Светлане Леонидовне Соболевской — известному уфимскому искусствоведу, аксаковеду (в том числе исследовательнице темы садов в творчестве писателя), что готовлю статью о саде Аксакова, она порекомендовала мне прочитать книгу Сергея Дмитриевича Лихачёва «Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей». Познакомившись с этой работой выдающегося российского ученого и гуманиста, я, поистине, совершенно иными глазами увидела и сад Аксакова и другие уфимские сады и парки. Увидела, в первую очередь, как, в соответствии со вкусами и предпочтениями их создателей и владельцев, они изменялись в каждую эпоху в садово-парковом искусстве, и какую роль в жизни уфимцев играли эти уголки городской природы. Хочу искренне поблагодарить Светлану Леонидовну за помощь, поддержку и многие ценные советы. Также поблагодарить уфимского аксаковеда Сергея Витальевича Мотина за помощь в поиске исторических сведений.
По приведенным Д.С. Лихачевым сведениям, сады разводили ещё в древнерусских городах, а в XVI – и XVII веках, например, в Москве и Подмосковье их уже было огромное количество. Те, что принадлежали царской семье и знати, предназначались уже не только для выращивания фруктов и ягод, но и для красоты и «прохлады»: в них сажались редкие деревья, красивые кустарники, цветы. Уже при царе Алексее Михайловиче для благоустройства царских садов приглашались голландские мастера. В них вырос Петр I, и всю свою жизнь очень любил сады и неустанно заботился об их разведении. В петровскую и послепетровскую эпоху наиболее популярными стали сады в стиле голландского барокко — небольшие, регулярные сады и парки, с четкими геометрическими линиями в планировке дорожек, цветочных клумб и посадок, обилием цветов, с аллеями обязательно подстриженных деревьев и кустарников.
В начале XVIII века вряд ли такие регулярные сады существовали в отдаленной Уфе, где даже среди дворянства, жившего ещё «совсем по старине» находилось очень мало состоятельных, а главное образованных людей. Яблоневые сады, хотя и составляли ценную частью хозяйства, служили в первую очередь источником продуктов питания. Большие изменения в жизни города произошли в 1782 году, когда в результате очередной административной реформы было образовано Уфимское наместничество, и управление обширным краем было перенесено из Оренбурга опять в Уфу. За чертой старого города, на месте где сейчас находится Дом правительства, выстроен комплекс зданий для резиденции наместника, прибыли новые чиновники и военные, многие из которых до этого жили и служили в столичных городах, они и привнесли различные новшества в жизненный уклад горожан. В доме наместника и у других сановников начали устраиваться балы, маскарады, праздники.
В эти годы в Уфе и пригородных имениях стали появляться первые сады и парки, считавшиеся признаком хорошего вкуса хозяев, и предназначенные для отдыха, приятных прогулок, общения с гостями. Обустройством их занимались крепостные, а планировкой, вероятно, сами хозяева (по крайней мере, первоначально, и те, у кого еще не было обученных садовников). За образцы брались сады, где уфимским дворянам случалось побывать, кроме того, с конца 1770-х годов на русском языке стали издаваться пособия по садово-ландшафтному искусству.
Ближайшими уфимскими приятельницами Марьи Николаевны Аксаковой были две сестры из известной уфимской дворянской семьи Пекарских — Мария Николаевна в замужестве Воецкая и одна из её сестер Фиона или Надежда. В «Детских годах Багрова-внука» С.Т. Аксаков перечисляя самых близких друзей родителей упомянул и о них: «Воецкая, которую я особенно любил за то, что ее звали так же, как и мою мать, Софьей Николавной, и сестрица её, девушка Пекарская». Их старший брат Петр Николаевич Пекарский (1864 — 1853) в своем имении Отрада под Уфой развел сад, о котором уже его сын – академик, исследователь русской литературы Петр Петрович Пекарский, в начале 1880-х гг., писал в своих воспоминаниях: «Петр Николаевич был известен уфимским старожилам своим хлебосольством и гостеприимством: деревню его около Уфы «Отраду» знал там и стар и млад; но эта широкая жизнь с разными барскими затеями в роде: домашнего оркестра музыки, псовой охоты, оранжерей теплиц и т.п. расстроили состояние Пекарского, и Отрада, которую он так лелеял и с которой сжился, под конец его жизни была продана… В саду, в былые времена на славу расчищенном и подстриженном, на удивление всех соседей, теперь разведен пчельник; и только великолепные столетние березы и сосны – безмолвные свидетели помещичьего раздолья и приволья – высоко поднимают свои вершины и смело переносят и запустение и небрежение». Отрада находилась в современной деревне Базилевке, от дворянского имения в ней сохранились только пруды, но от парка Пекарских не осталось и следа.
В середине XVIII века в России под влиянием идей просвещения все более популярными становятся не регулярные, а пейзажные сады и парки. В Европе элементы пейзажности в садовом искусстве стали впервые организовываться в определенный стиль в эпоху рококо. В пейзажных садах уже не хотели подчинять природу и растения прихотям человека, изнуряя деревья чрезмерной стрижкой и посадками по строгим геометрическим линиям, а стремились сделать парк или сад более естественным и близким к нетронутой природе. Сады рококо стали связующим элементом между регулярными садами барокко и садами эпохи романтизма. В садах рококо еще сохранялись элементы регулярности, обилие цветочных клумб, например, но уже явственно проступали «предчувствия» романтической иррегулярности.
По описанию С.Т. Аксакова сад в Голубиной слободке очень походил на сады эпохи рококо. Вернемся же еще раз к этому небольшому отрывку.
«…наступила ранняя и в то же время роскошная весна; взломала и пронесла свои льды и разлила свои воды, верст на семь в ширину, река Белая! Весь разлив виден был как на ладонке из окон домика Голубиной слободки; расцвел плодовитый сад у Багровых, и запах черемух и яблонь напоил воздух благовонием; сад сделался гостиной хозяев, и благодатное тепло еще более укрепило силы Софьи Николаевны… В хорошую погоду она прохаживалась по саду, два раза в день по получасу; в дурное время то же делала в комнатах, растворив все двери своего небольшого домика».
Родители будущего писателя были представителями нового, более просвещенного уфимского дворянства. В кругу их ближайших друзей много читали, беседовали, ценили красоту и изящество, приветствовали многие новшества; том числе и последние веяния в садово-парковом искусстве. Сад Аксаковых в Голубиной слободке, не был парадным, как сад барокко, а им мог быть и очень небольшой распланированный, подстриженный, регулярный сад, обычно располагавшиеся перед домом, а главная аллея выполняла при этом роль парадного подъезда. Как типичный сад рококо, сад Марии Николаевны имел черты иррегулярности, и стал местом для частной жизни, общения с друзьями «сделался гостиной хозяев», располагал к отдыху в уютных уединенных уголках, изяществу, созерцанию красоты растений и окружающего пейзажа. В садах рококо стали заботится о том, что бы из него открывался хороший вид на окрестности. Как писал в своей книге Д.С. Лихачев в садово-парковом искусстве очень важна и природа за пределами сада, например небо, видимое то в больших, то в малых размерах через деревья и над деревьями». Из окон дома и из сада Аксаковых в те годы был прекрасный вид на Белую и забельские дали. В плохую погоду хозяйка прогуливалась по комнатам «растворив все двери своего небольшого домика». В эпоху рококо началось не только сближение, но даже «вхождение» сада в дом, что повлияло и на архитектуру. В домах стали делать большие окна и двери, широко раскрывавшиеся в сад.
Аксаков упоминает только о двух деревьях: яблонях и черемухе. Может показаться, что в саду уфимской дворянской усадьбы последняя оказалась случайной гостьей и выросла сама по себе, но скорее всего её сажали специально.
В малоизвестном, подростковом стихотворении М.Ю. Лермонтова, есть упоминание о черёмухе, вероятно, росшей в саду в Тарханах, в имении бабушки. И даже если в Пензенской губернии черемуха служила украшением усадьбы, то в Уфимском крае тем более.
На склоне гор, близ вод, прохожий, зрел ли ты
Беседку тайную, где грустные мечты
Сидят задумавшись? Над ними свод акаций:
Там некогда стоял алтарь и муз и граций,
И куст прелестных роз, взлелеянных весной.
Там некогда, кругом черемухи млечной
Струя свой аромат, шумя, с прибрежной ивой
Шутил подчас зефир и резвый и игривый.
Серёжа Аксаков прожил в Голубиной слободке недолго. Коллежский советник Николай Семёнович Зубов скончался 12 апреля 1792 года, и как мы знаем из «Детских годов Багрова-внука», затем семья переселилась в дом дедушки. Можно предположить, что до переезда осенью 1797 года семьи Аксаковых из Уфы в имение в Бугурусланском уезде, Серёжа Аксаков мог бывать с родителями и в прекрасном саду в Голубиной слободке. И сравнить его с другим садом своего детства – при доме Зубовых. «…Сад, впрочем, был хотя довольно велик, но не красив: кое-где ягодные кусты смородины, крыжовника и барбариса, десятка два-три тощих яблонь, круглые цветники с ноготками, шафранами и астрами, и ни одного большого дерева, никакой тени; но и этот сад доставлял нам удовольствие». Обратим внимание – «ни одного большого дерева». Оберегая белизну кожи дворянки не любили оставаться на солнце, и если Софья Николаевна Багрова (Мария Николаевна Аксакова) так любила подолгу прогуливаться в своем саду в Голубиной слободке там, вероятно, были и большие деревья дававшие тень. И как мы увидим далее, липы и другие деревья Аксаковского сада росли в нем ещё в 1850-е годы.
Сад эпохи романтизма
По всей видимости, усадьба Аксаковых занимала почти весь квартал между современными улицами Пушкина, Ново-Мостовой, Заки Валиди и Цюрупы. В конце XVIII века эта местность имела совершенно иной вид, чем сейчас. Между улицами Заки Валиди (Ильинской) и Пушкина (Голубиной слободкой) был овраг, по которому текла безымянная речка (так что присутствовала еще одна важная составляющая пейзажных садов – естественный водный источник). Большой овраг разделял Голубиную слободку и Казанскую улицу (ныне Октябрьской революции).
Первые значительные изменения произошли здесь после пожара 1821 года, когда сгорела большая часть города. В 1824 году на месте деревянной Спасской церкви началось строительство нового каменного храма, через овраги была насыпана дамба и проложена новая поперечная Спасская улица (ныне Ново-Мостовая). С появлением дамбы новые хозяева бывшей Аксаковской усадьбы обустроили в овраге пруд. Так что озеро саду им. С.Т. Аксакова на самом деле старинный уфимский пруд, которому уже без малого 200 лет.
В первой трети XIX века в квартале располагалось уже четыре усадьбы, и на одной из них (второй от угла современных улиц Цюрупы и Пушкина), принадлежавшей отставному полковнику Василию Николаевичу Воеводскому, был большой сад. В 1848 г. угловая усадьба была приобретена городом для уездного училища, в 1830-1840 гг. владельцем трех других, и сада стал полковник Алексей Григорьевич Краевский, служивший в Оренбурге и Уфе.
13 июня 1859 года уфимцы почтили память Сергея Тимофеевича Аксакова и посетили сад Краевского, заметка об этом была напечатана в выходивших в Уфе «Оренбургских губернских ведомостях» В одном из храмов состоялась панихида за упокой души болярина Сергия, на ней присутствовали многие почитатели писателя родственники и друзья семьи, а так же бывшие и нынешние студенты Казанского университета (писатель был в числе первых его выпускников). «По окончании панихиды, кому то из поминавших Сергея Тимофеевича пришла мысль – посетить то тесто, где был некогда в Уфе дом Аксаковых и где родился Сергей Тимофеевич. С благодарностью была принята эта мысль и все, бывшие в церкви, отправились в Голубиную слободку, где действительно, по сказанию старожилов уфимских, был дом, принадлежавший родителям Сергея Тимофеевича, в котором они жили несколько лет после брака. Место это и уже другой на нем дом, построенный вместо старого Аксаковского, сгоревшего в пожар в 1821 году, принадлежит ныне полковнику Краевскому. Но огромный сад при доме, заключающий в себе более 2-х десятин земли, с его старыми чуть не столетними деревьями, несомненно, говорят нам, что здесь-то провел свое первое детство Сергей Тимофеевич. Особенно приковала к себе внимание всех, более чем 100-летняя липа, величаво осеняющая один из флигелей, принадлежавших к нынешнему, тоже уже старому и запустелому дому. Невольно рисовалось давнопрошедшее, рисовался и малютка, играющий в тени этой липы, быть может, в такой же, каким был день 13 июня. Находящиеся в саду, заброшенные и покрытые зеленью пруды, наводили некоторых на мысль, что, может быть, пруды эти, бывшие тогда чистыми и светлыми, впервые поселили в ребенке страсть к ужению. Много тут перерисовывалось, передумывалось, но более всего перечувствовалось всеми, и никому и не хотелось уйти из этого запустелого и заглохшего сада. Так было хорошо тогда там; столько жизни было тогда в этом окружающем запустении».
В подобном поэтическом запустении сад Краевского очень походил на пейзажный сад эпохи романтизма. В них стремились создать условия к уединенным прогулкам, размышлениям, приятной меланхолии. В садах романтизма очень ценились тенистые аллеи, старые деревья, старинные здания (и даже развалины), заросшие пруды.
В статье известного уфимского краеведа З.И. Гудковой «Усадьба Аксаковых в Голубиной слободке» (была опубликована в журнале «Бельские просторы», №№ 9 и 10, 1999) приведены сведения из сохранившегося в Национальном архиве РБ «Дела об оценке и описи имения А.Г. Краевского за долги. 1840-1855 годы». В нем среди других документов находится опись имущества, составленная в декабре 1848 года, в числе которого был описан и сад. В саду Краевского в это время росли: 60 яблонь, 46 ореховых кустов, 40 старых осин, 20 берез, 8 ракит, 5 вязов, 7 лип, одна лиственница, 2 ели, 2 дуба; кроме того находилось три бассейна и колодец. Наличие последних указывает на то, что о благоустройстве и посадках заботились. Кроме того здесь росли и тогда редкие для Уфы деревья – березы, лиственница и две ели.
В 1864 году преподаватель Уездного училища Михаил Митрофанович Сомов опубликовал в «Оренбургских губернских ведомостях» большой краеведческий очерк «Описание Уфы». В нем он привел не только многие сведения об истории, но описал всю тогдашнюю уфимскую жизнь, том числе привел сведения о городских деревьях и кустарниках. «Растительное царство в Уфе довольно обыкновенно. Зелени, деревьев, правда, много, от чего увеличивается и красота ландшафта; но садов больших и хорошо устроенных здесь почти нет… Дикорастущие плодовые деревья и кустарники состоят из черёмухи, рябины, чёрной смородины, ежевики, калины, орешника и некоторых других… Между деревьями прочих пород здешней местности свойственны преимущественно лиственные – липа, мелкий дуб и вяз, осина, ольха, ива, берёзы же в ближайших окрестностях очень мало, а хвойных деревьев почти вовсе нет; но собственно в городе, сверх упомянутых выше, берёз встречается много и притом большими деревьями, найдётся также несколько и хвойных и кроме того много сирени и акации».
Когда в 1859 году почитатели С.Т. Аксакова посетили сад Краевского, хозяин жил в Оренбурге, и хотя уже выплатил все долги, продавал уфимскую усадьбу. О чем сообщал в объявлении, напечатанном в номере «Оренбургских губернских ведомостей» от 16 мая 1859 года. “Продается состоящий в г. Уфе, в Голубиной слободке дом деревянного строения, принадлежащий полковнику Краевскому с двумя при нем флигелями, из коих один двухэтажный, каменный, с местами, садами, огородами, бассейнами и прудом, в котором имеется некоторого рода рыба».
Первый городской публичный сад
Наступали иные, более прагматичные времена. Тихий дворянско-чиновничий город постепенно увеличивался, начало пассажирского пароходного движения по реке Белой и образование в 1865 году отдельной Уфимской губернии стали новым этапом в развитии Уфы. На смену разорявшемуся дворянству приходила другая элита – купечество.
Усадьбу Краевского купил уфимский купец первой гильдии Кондратий Игнатьевич Блохин. Основной капитал он заработал производством и продажей водки, содержанием трактиров и питейных домов. В 1865 году у Кондратия Блохина в усадьбе на Голубиной улице имелся водочный завод с оптово-розничным складом продукции, питейный дом, гостиница. Кроме того в городе существовали и другие торговые заведения.
В очерке «Описание Уфы», М.М. Сомов сообщил об открытии Блохиным еще одного коммерческого предприятия — первого городского публичного сада: «…общественных гульбищ до сего времени в Уфе не было, исключая жалкого бульвара на торговой площади, но с мая 1863 года открыт летом для публики за умеренную плату сад купца Блохина, где три дня в неделю играет музыка и устроены кегли. При саде находится ресторан. Сад этот занимает довольно обширное место, но ещё не устроен надлежащим образом; аллеи его узки и многие без тени, потому что ещё недавно засажены; нет цветников, так много украшающих сад. При саде находится небольшой, но, к сожалению, покрытый плесенью, пруд».
По описанию М.М. Сомова открытый К.И. Блохиным сад уже был совсем иным, чем романтический сад Краевского — местом не для меланхолических прогулок и уединения, а веселья и развлечений «за умеренную плату». О столетних деревьях сада Краевского Сомов уже не упоминает. Не хочется думать, что они были вырублены. Помните финал «Вишнёвого сада» А.П. Чехова? — «Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву».
Сад изменился, но многие романтические встречи и прогулки, конечно, были и здесь. В своих воспоминаниях Михаил Васильевич Нестеров писал, что свою будущую, горячо им любимую жену, Марию Мартыновскую, он впервые увидел в Ушаковском парке, искал с ней встречи. «Общие знакомые однажды пригласили меня в Блохин сад, намекнув, что там будет и Мария Ивановна. Я не заставил себя просить, был раньше всех на месте. Появились мои знакомые, студент медицинской Академии К-н, его сестра и две мои знакомые незнакомки. Познакомились…».
После смерти К.И. Блохина владельцем сада стал старший сын — Александр Кондратевич, в 1875 г. он построил в саду деревянный театр. Другой сын — Николай Кондратьевич Блохин был известным благотворителем, занимался книгопечатанием и книготорговлей, в 1869 году открыл библиотеку.
В 1884 г. усадьбу и сад Блохина купил М.В. Пупышев, а 1888 году известный уфимский купец — Василий Ильич Видинеев (1844 — 1903) и до 1920-х годов он носил его имя. В 1894 году Видинеев построил здесь новый прекрасный летний театр, который очень любили несколько поколений уфимцев (был снесен в 1991 году). Любили горожане и сам сад, хотя в местной печати его содержателей часто критиковали: в основном за бедную растительность и неизменно заболоченный пруд.
В книге-справочнике А.А. Гуляева «Иллюстрированная Уфа (Уфа в прошлом и настоящем)», изданном в 1914 году автор писал о Пушкинской улице: «На этой улице находится сад Видинеевых с летним театром и озером-болотом, украшающим в известной степени сад, но вместе с тем и награждающим воздух обилием сырости и предрасполагающим к малярии».
В 1916 году в июльских номерах газеты «Уфимский край» была напечатана статья «Впечатления приезжего в Уфу», в которой автор описал многие уфимские неблагоустройства, в том числе побывал он и в городских парках. «Кроме Ушаковского парка здесь имеется Видинеевский сад. В нем помещается летний театр. В противовес Ушаковскому парку, он беден растительностью и лишен всяких клумб. Воздух отравлен испарениями, исходящими из находящегося в конце сада гнилого, заплесневевшего болота, по странной игре случая, именуемого прудом.
В Ушаковском парке есть хоть трухлявые скамейки, здесь же их так мало, что публика вынуждена все время бродить по саду, не имея возможности отдохнуть.
Правда есть в Видинеевском саду фонтан. Но он… совершенно бездействует и стоит, по-видимому, лишь «для фасону». Грязь по дорожкам здесь совершенно не убирается, а имеющаяся в саду чайная представляет собой какую-то жалкую пародию».
Городской сад советской эпохи
В 1920-х годах сад был назван именем А.В. Луначарского. В конце 1930-х, наконец, расчищен пруд, построена танцевальная площадка, играл духовой оркестр, на озере летом катались на лодках, а зимой оборудовался каток, в 1950-х появилась площадка для аттракционов и непременные гипсовые скульптуры. И многих других деталях сад был обустроен по образцам садов и парков советской эпохи. Эго очень любили горожане. В самые трудные времена, одевали самую нарядную одежду, вечером или в выходной день шли гулять в любимый сад, который чаще называли «Лунный». По воспоминаниям старожилов, это можно видеть и на сохранившихся фотографиях, растительность в нем была очень густой и пышной – кроме множества различных деревьев (огромные ивы росли и вдоль берегов пруда), было много сирени, и очень много прекрасных цветов. Но в 1969 году с южной стороны сада появился громадный корпус кабельного завода, который погрузил большую его часть в тень, что неизбежно, отрицательно сказалось на микроклимате и росте растений. Безликий высотный дом, в недавние годы появившийся с восточной стороны стал еще одной преградой для солнечного света, и неба, — очень важной части паркового ландшафта, которое когда-то было видно в просветах между деревьями.
Наши дни
С началом перестройки, в 1989 году саду присвоили его историческое название — сада имени С.Т. Аксакова. И вот уже 30 лет он становится одной из главных площадок, где проводится Международный Аксаковский праздник, учрежденный по инициативе директора мемориального дома-музея С.Т. Аксакова, известного писателя и общественного деятеля – Михаила Андреевича Чванова.
Ныне сад располагается на площади в 2,5 гектара, что сравнимо с садом на усадьбе Краевского, занимавшего более 2-х десятин (1 дес. – 1,1 га). Самой привлекательной частью этого замечательного, и по-прежнему любимого уфимцами природного и исторического уголка можно назвать небольшой, но живописный пруд, где летом живет пара лебедей, находят пристанище дикие утки, и даже водится крупная рыба. К большому сожалению, городская застройка продолжает сжимать кольцо домов вокруг этого уникального сада. При строительстве нового здания по ул. Цюрупы были спилен ряд прекрасных лип примыкавших к территории парка. В современном городе, парки, а особенно исторические, являющие собой ценнейшие памятники природы, культуры, истории, при малейшей возможности должны расширятся. Такая программа принята в европейских городах, где если в исторических кварталах сносятся здания, на этом месте уже ничего не возводится, а разбиваются, скверики, скверы, сады и парки. Но в Уфе сейчас, зачастую, происходит обратное. Застройщики непременно хотят внедриться если не на территорию итак небольшого пака, то возводить высотные здание прямо на его границах. В саду Аксакова год от года, продолжает уменьшаться количество деревьев, и совершенно исчезла сирень, которой когда то так славилась Уфа. Ныне древесными достопримечательностями здесь являются: огромный красавец осокорь, растущий слева от входа со стороны ул. Пушкина, и лиственница, как определили ученые, начавшая свой рост примерно в 1869 году.

18 августа 2020 Янина Свице Среда обитания
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1559623464...