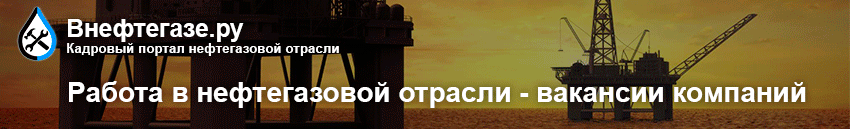СИРАНО ИЗ ПЯТОЙ РОТЫ
Все началось с того, что он спас от неминуемого суицида Борю Галушкина. Как-то смолили они "Памир" в курилке. И Боря Галушкин сказал:
— Удавлюсь на хрен! И посмотрю, как будет визжать на похоронах!
— Велико удовольствие!
— А что? Целый месяц не отвечает, зараза!
— Может, не так пишешь?
— Ага! Я ей конкретно написал: приеду, убью!
— Разве так пишут письма девушкам?
— А как? Попробуй вот сам ей написать.
— Попробую, а что? Как ее зовут-то?
— Галя.
— Галя. Имя-то какое.
— Какое?
— Красивое. Дай-ка бумагу-то…
И он написал письмо Гале. От имени Бори Галушкина. Боря тщательно переписал текст, приговаривая ходовое в ту пору словечко «ништяяк!»
— Э-э, да ты тут стих присобачил. Может, не надо?
— Надо.
— А чей это?
— Какая тебе разница. Напиши, что сам сочинил бессонной ночью.
— Не поверит!
— Поверит. От души же. Добавь – мол, смотри, что со мной сотворила окаянная любовь к тебе!
Боря Галушкин добавил. Через неделю на свои четыре странички он получил шесть страниц ответа. Галя клялась в любви и верности и просила еще стихов, «если тебе не жалко, мой любимый!».
Галушкину было не жалко. Вскоре к "любовному писарю" выстроилась очередь.
— Слышь, салабон, напиши-ка письмецо моей пичуге…
Салабон написал и пичуге. Пичуга рыдала три недели.
Его письма срабатывали безошибочно. Был он призыва "дикого", откуда-то из чума, но у него находились какие-то особые слова и для девчонки из глухой тамбовской деревушки, и для красавицы из солнечного Еревана, и даже для юной оленеводки из поселка Эгвекинот, что на краю земли Чукотки. В сердцах девчонок, потерявших было интерес к своим солдатикам, вспыхивали новые чувства, они дружно садились за ответные послания. В роту письма носили тюками. Если бы поставить под пресс эти тюки, то пролились бы реки слез влюбленных девушек всех краев необъятной в ту пору страны.
Сам он письма не получал. Не от кого было. Салабон он и есть салабон, кто ему напишет.)
13 декабря 2012 florid_buljakov Жизнь
Источник: http://florid-buljakov.livejournal.com/756617.html