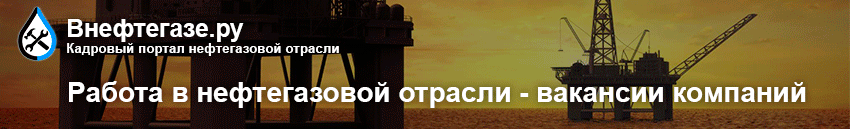«Черноликие» М.Гафури, Башкирский театр драмы им. М.Гафури, Уфа, реж. Айрат Абушахманов
"Не пускай шамана в туземный совет!", лозунг из фильма "Ангелы революции" и один из самых запоминающихся моментов этой сомнительной кинофантасмагории (как бы не напирали Федорченко с Осокиным на историзм и этнографичность своего опуса) — конечно, ироническая гипербола, но она явственно напоминает, сколь важным для большевиков — для настоящих большевиков — направлением деятельности была борьба с религией и религиозностью, не просто с клерикализмом и церковными институциями, не просто с личной верой отдельных граждан, но с религией как объединяющей консервативной, контрреволюционной идеологией, будь то православие, ислам, иудаизм или языческие культы народов Сибири. Соответственно, православно-фашистский реванш конца 1930-х годов сопровождался массовым, поголовным уничтожением большевистского актива. С исламом, конечно, все чуть менее однозначно, поскольку он для русской империи государствообразующей религией никогда не являлся, но так или иначе до конца 1930-х, когда империя нанесла ответный удар и большевистская утопия, завязанная на мировую революцию, была русскими окончательно похоронена, башкирский литературный классик Мажит Гафури, имя которого носит национальный драмтеатр и чью позднюю прозу ныне заново инсценирует, по счастью для него не дожил, а не то наверняка был бы обвинен, подобно многим, в буржуазном национализме, и поставлен к стенке.
Я без особого труда отыскал в интернете русский перевод повести "Черноликие", написанной в 1927 году — то есть эта проза вышла в свет, хотя и будучи образчиком "национальной литературы", в те же годы, что "Разгром" Фадеева (1926), "Зависть" Олеши (1927), "Красное дерево" Пильняка (1929), другие знаковые произведения, если и не напрямую приуроченные к первому десятилетию победы Великого Октября, то как минимум обозначающие конфликт "старого мира" с "новым", важнейшую, центральную тему в прозе и вообще в советском искусстве 1920-х годов. Хотя рассказчик и повествует о событиях тридцатилетней давности, стало быть, сюжет разворачивается аж в конце 19-го века, но подается с большой временной дистанции и с точки зрения человека уже новой и прекрасной, как считалось на тот момент, эпохи на эпоху прежнюю, ужасную, безвозвратно ушедшую. Примечателен уже факт, что эта дистанция в современной инсценировке (ее авторы — Шаура Гильманова и Айрат Абушахманов) отсутствует. Повествование ведется от лица мальчика Гали, которого по старинке играет актриса-травести. Обучаясь в городской медресе, он получает письмо из родной деревни, из которого узнает о смерти своей двоюродной сестры Галимэ, утонувшей в проруби, и вспоминает ужасную предысторию ее гибели — любовь, клевету, обвинения в распущенности, побивание камнями по закону шариата, помешательство после того, как один из камней попал ей в голову, изгнание из родительского дома, изуверские "целительные" обряды, прогрессирующее безумие… "Одна из миллионов жертв старой жизни" — так герой-повествователь характеризует свою кузину, а его отец, провожая сыну в город на учебу, бросает вслух проклятие встретившемуся мулле. Да и возлюбленный Галимэ, батрак Закир, не просто какой-то парень, а свободолюбивый заводила, лишившийся работы за слишком вольные речи, и объектом наветов молодые стали не только из-за ревности и зависти, без классовой подоплеки и в романтической линии сюжета не обошлось.
То есть повесть, будучи прозаическим повествовательным сочинением, изначально представляет собой благодатный материал для театра, а вернее, для т.н. "национального театра", чьи каноны формировались все в те же благословенные, преисполненные созидательного энтузиазма 1920е годы. Национальный театр — по сути большевистское изобретение, то есть придумано оно, конечно, национальной интеллигенцией (у каждой национальности российской империи — своей, но практически одного плана для всех, от латышей до якутов), а в повседневную культурную практику внедренное именно большевиками и с целями, разумеется, в первую очередь политическими, педагогическими, то есть идеологическими (где воспитание — там и идеология, особенно если власть берется воспитывать народ), а уже затем собственно художественными. Так что понятие "национальный театр" — это не просто "театр" с определением "национальный, это разница качественная, ну примерно как есть писатели, а есть писатели-сатирики, писатели-фантасты, детские писатели, и среди последних могут быть прекрасные, выдающиеся, неповторимые таланты, но все равно по статусу "писатель-фантаст" — это как бы не настоящий писатель, а если настоящий — то он не "фантаст", а писатель просто, даже если пишет фантастику, ну или там стишки детские, или фельетоны. Вот и "национальный театр" — это совершенно особый и вполне конкретный, если угодно, формат, где максимально бесхитростный, доходчивый сюжет предпочтительно "почвеннического" плана (персонажи — простые, лучше если деревенские жители) с ярко выраженной социальной, исторической, классовой проблематикой подается через в большей или меньшей степени искусственный и утрированный фольклорно-этнографический антураж.
Я немало видел такого типа "национальных" спектаклей в молодые годы — не башкирских, не доводилось; но татарских, чувашских, мордовских — хватило на всю оставшуюся жизнь: от драм о последствиях нелегальных абортов на деревне до "серийных" водевилей вроде "Тетушка Праски дочку выдает", "Тетушка Праски внука женит" и т.д. Между прочим, у своей целевой, то есть опять-таки национальной аудитории они даже в 1990-е годы, когда на спектакли самых выдающихся режиссеров в Москве никто не ходил, пользовались непреходящей популярностью, и если у Женовача на Малой Бронной на его замечательных тогдашних постановках сидело в зале человек по 40-по 60, то "тетушкам Праски", простецким драмам и комедиям театров им. Г.Камала в Казани, им. К.Иванова в Чебоксарах и др. аншлаги всегда были обеспечены, и на гастролях в сопредельных регионах также. Идеология с течением времени менялась, революционный пафос и героика социалистического, преимущественно колхозного (материал-то для сюжетов шел в ход деревенский, как правило) строительства сменялся мотивом ущемления прав национальных меньшинств, антиклерикализм — религиозным возрождением, но сам факт "идеологического заказа", прямого или косвенного, никуда не уходил. И не ушел. Сегодняшний спектакль театра им. Мажита Гафури по по повести Мажита Гафури — образчик продукции того самого "национального театра", чья эстетика, стилистика, форма высказывания ничуть не изменилась за целый век, но чей идеологический посыл менялся вместе с политической модой, а точнее, вместе с государственным заданием. В выполнении этого "задания" режиссеры и актеры могут оставаться в достаточной степени честными, искренними (один из актеров театра им Гафури — тот, что играл отца девушки, старик с золотыми зубами — как оплакивал дочь в спектакле по сюжету, так и на поклонах продолжал слезы лить, не мог выйти из образа, настолько глубоко поверил в предлагаемые обстоятельства), могут проявлять, если он имеется в наличии, талант и фантазию, да и заказ как таковой необязательно спускается сверху в виде официальной разнарядки (хотя мы уже сейчас живем в ситуации, когда оперным и кукольным театрам, не то что драматическим, как раз и рассылаются циркуляры с тематическими планами из департаментов культуры), но наличие идеологического посыла, продиктованного текущими политическими тенденциями, и его выражение через формы, сложившиеся для реализации совсем, может быть, иных, а то и вовсе противоположных идей, взглядов, политических задач, из "национального театра" никуда не уходит, поскольку остается для этого явления фундаментальным, корневым.
От повести, созданной к десятилетию революции, в сегодняшних "Черноликих" осталась сюжетная канва. От формата "национального театра" — весь набор выразительных средств, стилизованные "народные" костюмы, слегка модернизированные, но на фольклорной основе, игры (с использованием почти аутентичной атрибутики), песни (в микрофон) и танцы (с перьями), выполненное в этническом ключе, с приметами "бедного" театра и лубка, сценическое оформление и игровая атрибутика, обрядовые элементы. От современного искусства — расширяющие пространство спектакля, выводящее фольклорное и национальное явление в поле академической и общемировой культуры — художественные аллюзии, например, на прерафаэлитскую Офелию в эпизоде, когда помешавшуюся после побивания камнями и изгнания из отцовского дома Галимэ подвергают "очистительному" ритуалу (вполне, кстати, языческому), старухи-знахарки кладут в бадью с водой, обкладывают веточками и цветочками, читают поэтичные заклинания, да и в целом характер девушки в чем-то перекликается с образом шекспировской героини, правда, ее возлюбленный, несмотря на пылкие поначалу речи, оказывается какой-то бледной тенью, и практически бросил несчастную свою несостоявшуюся невесту на произвол судьбы, скрывшись в городе. С одной стороны, этнографическому антуражу "Черноликих" присуща заметная доля условности, роднящая инсценировку сугубо реалистической вроде бы прозы с символистской драмой; с другой — значительная степень этнографической точности. Я бы сам не обратил внимание, да и не знал, но благодарен за подсказку: у башкир женщина с голыми пятками считается чем-то абсолютно невозможным, неприемлемым, непристойным — и актрисы, изображающие деревенских девушек, работают в носочках; но едва доходит до персонажей инфернальных, призраков из безумных видений несчастной Галимэ — они оказываются босоногими…
А идеология новых "Черноликих" выстраивается, как выражались герои известной кинокомедии, "согласно уновь утвержденному плану", в соответствии с линией партии на "духовное возрождение", на утверждение "традиционных ценностей". "Грешникам" вымазывают сажей лица и гоняют по селу — это жестоко, бесчеловечно, уродливо, особенно если учесть, что "наказанные" по шариату ничего не совершили и даже по законам того же шариата невинны. Спектакль недвусмысленно осуждает "злоупотребление властью", "скоропалительность решение" и всякое такое "невежество", но категория "греха" и прижизненного, не по воздаянию за пределами земного бытия, но в светской, социальной практике наказания "грешников" не отвергается, не подвергается сомнению. Источник случившейся беды — в ложном обвинении и несправедливом приговоре, а не в неправомерности судилища. Свободная любовь юных существ, разрушенная и поруганная темными односельчанами, одураченными муллой, из сюжета не исчезает — но оценочные акценты принципиально смещаются. Для авторов спектакля важнейшим становится момент, что Галимэ и Закир злонамеренно оклеветаны, причем из самых низких побуждений; а на самом деле отношения парня и девушки до последнего оставались "непорочными". Вот если б связь в действительности имела место, ну тогда, конечно, суду шариата — вопреки официальным российским законам, между прочим — по всей строгости и справедливости, во имя аллаха милостивого и милосердного, ничего другого не оставалось, как приговорить распутников-прелюбодеев к лютой казни. Речь, выходит, не о зверской сущности ислама, но о "перегибах на местах"; пафос не антиклерикальный, но моралистический; и в спектакле открытым текстом проговаривается — не шариат, мол, виноват, а просто люди злые… Ну защищать и превозносить род людской я бы лично тоже не взялся, пожалуй. Однако стоит, мне думается, задаться вопросом: ну а если бы между парнем и девушкой (дело ведь молодое) что-то случилось взаправду — тогда, значит, камнями их надо побивать? А если, о ужас, между девушкой и девушкой, или между парнем и парнем? Понимаю, это совсем уж тема неформатная для пресловутого "национального театра", но все-таки — проблема в чем, в том, что мулла погорячился с решением или в том, что мулле традицией дано право оценивать чужую личную жизнь и выносить на основе моральной оценки смертный приговор?
Актуальность данного вопроса, очевидно, не ограничивается исламским фактором, при том что побивание камнями, а также многоженство, борьба с шайтанами, всевозможный шариат, газават, джихад и прочий бешбармак уверенно распространяется на территории современной РФ и номинально вопреки законам РФ, как и когда-то вопреки законам Российской империи, но с молчаливого согласия и одобрения надзорных органов власти из центра. Налицо "духовное возрождение" со всеми вытекающими вплоть до летального исхода. Печальные песни и эффектные ритуалы, разыгранные башкирскими актерами не то чтоб фантастически искусно, но не пошло и не позорно (что уже немало), служат рамкой для апологии ентой самой "духовности", как раньше, по изначальной задумке создателей "национального театра" (не конкретно башкирского, а вообще, в целом) служили для ее разоблачения. Как явление созданный ради утверждения "нового порядка", сегодня т.н. "национальный театр" легитимизирует "традиционные ценности", которые в первые и, вероятно, лучшие свои годы ниспровергал в драмах и осмеивал в комедиях, но в том же самом, что и нынче, эстетическом ключе, соединяющем неловкие модернистские потуги с фольклорной основой и наивно, нескладно "примиряющим" общемировые культурные тенденции с реконструированном на лубочном уровне местечковым колоритом.
Прямолинейность посыла в башкирском спектакле меня смутила в меньшей степени — скорее стоит отдать должное его авторам, для формата, в котором они работают, тема решена, пожалуй, гораздо тоньше, чем следовало ожидать. В гораздо большей мере неприемлема его идеологическая заданность, ради которой инсценировщики не постеснялись перелицевать национальную литературную классику по востребованной политической моде на "духовность". Учиться, учиться и учиться — установка вроде бы из обихода тех самых 1920-х, ленинская установка; но теперь "учиться" значит, как ни парадоксально, изучать ислам, глубоко постигать эту, говорят, гуманнейшую из религий (неужели "гуманнее" православия? ну тогда спасайся кто может…), так завещал пророк Мухаммед, собственноручно помогающий грамотным войти в рай. И вместо отцовского проклятие мулле, громко раздающегося из первоисточника Гафури, в финале инсценировки можно услышать, что самое светлое чувство, веру в бога, невежды могут обратить во зло… Вот оно в чем дело, вон в чем беда — в недостаточном знании ислама, православия, а заодно уж и языческих обрядов (героине они почти помогли — жалко, что она утонула прежде, чем окончательно исцелилась животворной силой народной культуры, политая водой, исхлестанная вениками и обложенная цветочками). Ну ничего, за мусульманами и православными не заржавеет, уж эти как начнут просвещать — глазам больно станет. Гафури в 1927 году писал о "миллионах жертв старой жизни", рассчитывая, что жизнь наступила новая. Теперь эта "старая жизнь" возвращается, и настоятельно требует все новых и новых жертв. Вернее было бы сказать, что новая жизнь обернулась фикцией, а старая никуда не уходила, лишь пряталась до поры за лицемерной фразеологией, но все-таки хтонические чудовища ислама и православия не торжествовали в 20-м веке так бесстыдно и агрессивно, как в 21-м. Не надо только забывать, что эти чудовища из ада восстали несамостоятельно — их вызвали из тьмы своекорыстные шаманы, на определенном историческом этапе по благодушию и недосмотру допущенные в туземный совет.
А тем временем спектакль башкирского театра драмы им. Гафури "Черноликие" демонстрируется в Москве не в рамках недели национальной культуры или по случаю какого-нибудь юбилея классика башкирской (а также и татарской) литературы — он претендует на "Золотую маску" в номинации "спектакль малой формы", где конкурирует с "Кто боится Вирджинии Вулф?" Камы Гинкаса, "Поздней любовью" Дмитрия Крымова и… "Человеческим использованием человеческих существ" Ромео Кастеллуччи. Поерничать на эту тему столь легко, что даже желания не возникает — хотя, конечно, будет смешно, если "Черноликие" вдруг окажутся "лучше" Гинкаса и Крымова. Ясно, что для театра из Уфы сама по себе московская гастроль — это и прекрасная, редкая возможность показать себя не только национальной целевой аудитории; и вместе с тем — откровенная подстава. Неловкость ощущают, вероятно, все, и суть дела понимают тоже, надо думать, все: тезисы "Россия — большая, многонациональная страна", "театральная жизнь существует не только в Москве" и всякая такая пошлая демагогия без того неизбежно обволакивает любой крупный фестивальный проект, а уж вкупе с пресловутым "духовным возрождением" присутствие "Черноликих" в одном списке с Гинкасом, Крымовым, Кастелуччи, а также упомянутым Женовачом, с Марчелли и даже с Волкостреловым (вот не знаю, как тут быть, и не завидую тем, кому предстоит выбирать между "Черноликими" и Волкостреловым…) смотрится совсем уж дико. И это обидно, потому что как таковой спектакль Айрата Абушахманова — достойный в своем роде творческий продукт, "темные" коннотации он получает только в предложенном контексте, оказываясь без вины виноватым, подставленным под летящие камни, перед необходимостью оттирать вымазанное лицо и доказывать чистоту намерений, в которую так хочется поверить.
25 марта 2016 _arlekin_ Культура
Источник: http://users.livejournal.com/_arlekin_/3315618.html